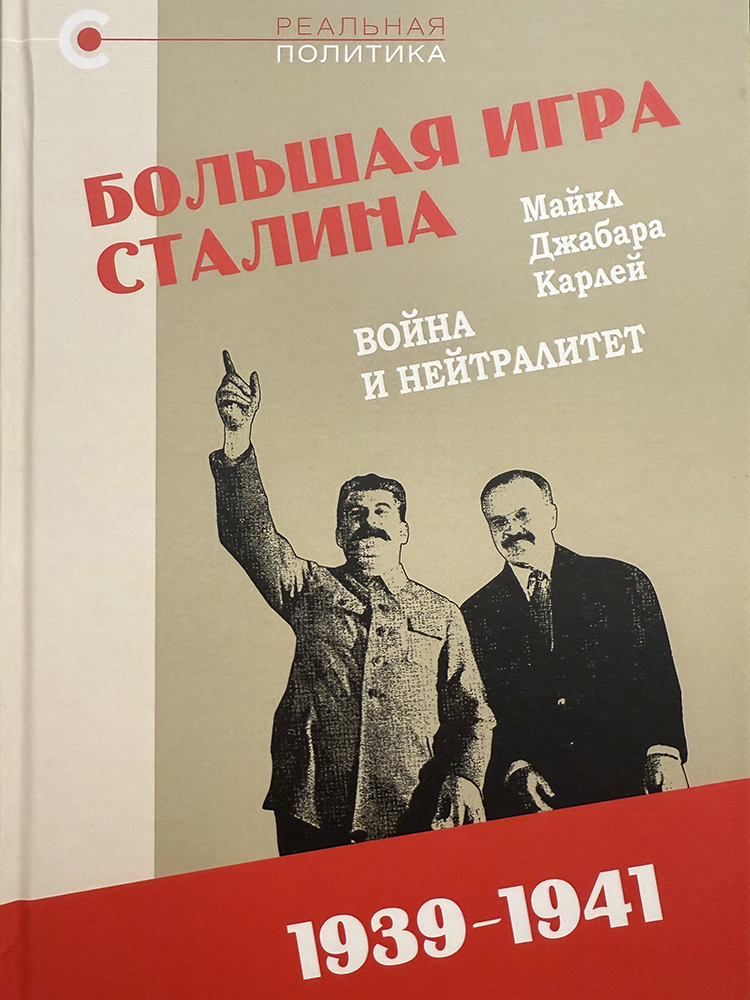Открытый архив: электронные публикации архивных документов

Судебный процесс над группой главных нацистских военных преступников проходил в г. Нюрнберге (Германия) с 20 ноября 1945 г. по 1 октября 1946 г. в Международном военном трибунале.
По случаю 70-летия Нюрнбергского процесса, Российское историческое общество представляет вашему вниманию презентацию фотографий и архивных документов из фондов Российского государственного архива социально-политической истории.
Нюрнбергский процесс: фотографии и архивные документы из фондов РГАСПИ
Суду были преданы высшие государственные и военные деятели нацистской Германии. Подсудимые обвинялись в составлении и осуществлении заговора против мира, человечности, в тягчайших военных преступлениях. Трибунал рассмотрел и вопрос о признании преступными организации – СС, СА, гестапо, СД, руководящего состава национал-социалистической партии, имперского кабинета министров, Генштаба и Верховного командования.
Трибунал был сформирован на паритетных началах из представителей четырех великих держав (СССР, США, Великобритания, Франция) на конференции 23-х государств, подписавших 8 августа 1945г. в Лондоне соглашение о судебном преследовании и наказании главных военных преступников. Процесс был гласным (все 403 судебных заседания были открытыми). Членом Трибунала от СССР являлся заместитель председателя Верховного Суда СССР генерал-майор юстиции И.Т. Никитченко. Главным обвинителем от СССР выступал Р.А. Руденко (прокурор Украинской ССР, впоследствии генеральный прокурор СССР).
Материалы процесса вскрыли невиданный масштаб военных преступлений на оккупированных территориях.
Трибунал зафиксировал в приговоре, что нападение на Советский Союз было произведено «без тени законного оправдания. Это была явная агрессия».
30 сентября – 1 октября 1946 г. был оглашен приговор. Трибунал признал подсудимых виновными в предъявленных обвинениях, указав:
«...развязывание агрессивной войны является…тягчайшим международным преступлением, которое отличается от других военных преступлений только тем, что содержит в себе в концентрированном виде зло, содержащееся в каждом из остальных».
Трибунал проговорил Геринга, Риббентропа, Кейтеля, Кальтенбруннера, Розенберга, Франка, Фрика, Штрейхера, Заукеля, Йодля, Зейсс-Инкварта и Бормана (заочно) к смертной казни через повешение; Гесса, Функа и Редера – к пожизненному заключению; Шираха и Шпеера к 20, Нейрата – к 15 и Дёница – к 10 годам тюремного заключения.
Трибунал признал преступными организациями СС, СД, гестапо и руководящий состав нацистской партии, но не вынес решения о признании преступными германского кабинета министров, Верховного командования и Генштаба.
Член Трибунала от СССР И.Т. Никитченко заявил о несогласии с решением о непризнании преступными этих организаций, с оправданием Шахта, Папена, Фриче и приговором Гесса к пожизненному заключению, а не к смертной казни.
Приговоренные к смертной казни были повешены в ночь на 16 октября 1946 г. в здании Нюрнбергской тюрьмы (за исключением Геринга, который незадолго до казни отравился).
Также будет интересно:
Связанные
Вас возможно заинтересует:
- Архивные документы, посвящённые периоду японской оккупации Северного Сахалина с 1920 по 1925 год
- Рассекреченные документы по советско-финскому конфликту 1939-1940-х годов
- Документы о первых бомбардировках Берлина авиацией СССР представлены в фондах РГАСПИ
- Оцифрована кинохроника выступлений советских обвинителей на Нюрнбергском процессе
- Из газеты 5-й Ударной Армии 4 Украинского фронта от 28 августа 1944 года
-
Архивные документы
-
Открытый архив
- Архивные документы, посвящённые периоду японской оккупации Северного Сахалина с 1920 по 1925 год
- Рассекреченные документы по советско-финскому конфликту 1939-1940-х годов
- Документы о первых бомбардировках Берлина авиацией СССР представлены в фондах РГАСПИ
- Оцифрована кинохроника выступлений советских обвинителей на Нюрнбергском процессе
Это демонстрационная версия модуля
Скачать полную версию модуля можно на сайте Joomla School
Поиск по сайту
ПОСЕТИТЬ ДОМ РИО
Вестник №4/2025
Фотоархив РИО
Новости проектов
- Участие военнопленных в Гражданской войне в России: мотивации выбора
- Дмитрий Бак: «Словарь Даля до сих пор не имеет себе равных в мировой практике»
- Доку Завгаев для «Российской газеты»: Интерес к Международной премии мира имени Л.Н. Толстого растет
- Руслан Гагкуев представил цикл документальных фильмов «Профессия — историк»
- Сила памяти. Что мы отмечаем в День народного единства