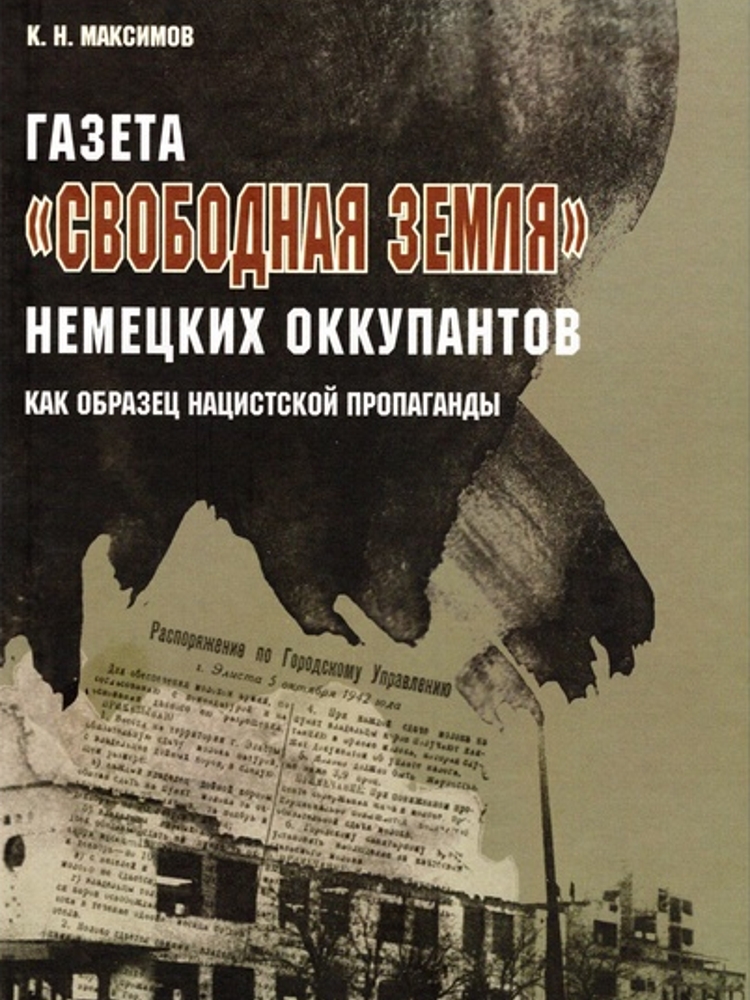Новости и события Российского исторического общества

С началом блокады Ленинграда город подвергался регулярным бомбардировкам. Жители города не только смогли выдержать 872 страшных дня, но и принимали участие в сохранении наиболее значимых памятников архитектуры.
О том, как удалось сохранить шпили Адмиралтейства и Петропавловского собора, рассказывает почётный гражданин Санкт-Петербурга, военный альпинист, фронтовик-разведчик, заслуженный тренер России и мастер спорта СССР, заведующий кафедрой физического воспитания СПбГУП Михаил Бобров (1923–2018) в ходе лекции, видеозапись которой доступна на портале Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина.
В ходе лекции Михаил Михайлович, в частности, ответил, почему противник так точно стрелял по школам, госпиталям, промышленным объектам, трамвайным остановкам.
«Когда наши разведчики проникли на немецкие артиллерийские позиции (они располагались на бывшей станции Дудергоф, на Вороньей горе, на Пулковских высотах, в Стрельне, из которой через залив били в город) и взяли «языков», немецких офицеров, то у них в планшетах обнаружили подробный план Ленинграда со всеми доминантами города. Эти «маковки», «луковки», кресты бликовали не только днём, но и в лунные ночи. На картах было указано, какое расстояние от немецкой артиллерийской позиции до, например, шпиля Петропавловского собора. Стрелять при такой наводке было очень просто»,
– вспоминал он.
Чтобы спрятать эти ориентиры, некоторые военные предлагали разобрать все наши доминанты. Вторым вариантом было возведение лесов для маскировки объектов. «Но где взять лесопиломатериалы, когда все они ушли на строительство ДОТов, ДЗОТов, блиндажей?!» – отметил Михаил Михайлович. Третьим предложением было использование аэростатов воздушного заграждения, которые поднимались на высоту 1400–1500 м. Однако на таком аэростате подойти к объекту было невозможно.
«И тогда молодой архитектор Василеостровского района Наталья Уствольская, сама альпинистка, предложила использовать альпинистов, которые находились в городе. Нашли Ольгу Фирсову, она в порту разгружала мины, от неё пошла ниточка к её подруге – Алле Пригожевой. Третьим оказался Алоиз Земба. Он пришёл ко мне в госпиталь. Так была собрана наша группа из четырех человек»,
– сказал он.
Главным в группе и был назначен молодой разведчик Ленинградского фронта, испытанный на передней линии боёв за город, Михаил Бобров.
«Специалисты разрешили закрасить сусальное золото только на куполе Исаакиевского собора и шпиле Петропавловского собора. Ни Адмиралтейство, ни шпиль Инженерного замка, ни другие церкви и соборы красить было нельзя. Дело в том, что купол Исаакиевского и шпиль Петропавловского соборов были покрыты настоящим червонным золотом, а остальные памятники – тонкой позолотой сусального золота. Их-то и предложили закрывать парусиной, потому что смыть потом камуфлирующую краску без вреда для покрытия было невозможно»,
– вспоминал Михаил Бобров.
Первым маскировали Исаакиевский собор. Его шапка бликовала и чётко просматривалась со всех точек города. «Мы забрались наверх, привязались к перилам и вначале покрасили чепчик купола, крест. Раненые матросы подавали нам вёдра с краской. Как только покрасили купол и четыре звонницы – в районе прекратился прицельный артиллерийский обстрел»,
– сказал Михаил Михайлович.
Следующим стало Адмиралтейство.
«Там было потяжелее – всё дело в сложной конструкции шпиля. Мы использовали обычное альпинистское снаряжение: поднялись, чтобы выполнить невероятно сложную задачу по маскировке. Девочки-военнослужащие сшили нам громадную парусиновую «юбку», она весила полтонны, но мы сумели поднять её. Вот тут начался первый обстрел немцами верхолазов. Когда мы закрепили парусину и распустили её, а Оля Фирсова поднялась наверх, чтобы стягивать и сшивать тяжёлую ткань, со стороны Дворцовой площади выскочил «Мессершмитт» и дал по ней пулемётную очередь. Чудом Олю не задело, потом она рассказывала, что видела лицо лётчика»,
– рассказал Бобров.
«Наступила зима самого трудного, первого блокадного года. В самый мороз, а он порой доходил до 43 градусов, мы приступили к маскировке Петропавловского собора. Начали работу с подвешивания блоков, чтобы можно было подниматься самим и поднимать вёдра с краской. Помимо морозов, были сильные ветры. Наверху было трудно работать. При сильных порывах ветра шпиль наклонялся на 80–85 см, а порой и больше, чем на 1 м. Но мы справились с заданием»,
– заключил он.
Жизни и профессиональному пути Михаила Михайловича посвящён фильм «Михаил Бобров. Хранитель ангела», также размещенный на портале Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина.
Михаил Михайлович пожизненно имел собственные ключи для входа в Петропавловский собор.
На основании материалов сайта Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина.
Текст: Вера Марунова
ВОЗМОЖНО, ВАМ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО:
Виртуальный тур по Архангельскому собору Московского Кремля
Художественный альбом «Путь к Победе» к 75-летию Великой Победы
Эрмитаж в годы Великой Отечественной войны. «Мы будем помнить эти годы...»
- 10 февраля в России отмечают День памяти Александра Сергеевича Пушкина
- 8 февраля в нашей стране отмечается День российской науки, приуроченный к дате основания РАН
- 28 января (8 февраля) 1724 года была учреждена Санкт-Петербургская Академия наук
- 7 февраля 1693 года родилась российская императрица Анна Иоанновна
- Стартовал приём заявок на XI Международную историческую школу
Это демонстрационная версия модуля
Скачать полную версию модуля можно на сайте Joomla School
Поиск по сайту
ПОСЕТИТЬ ДОМ РИО
Вестник №4/2025
Фотоархив РИО
Новости проектов
- Участие военнопленных в Гражданской войне в России: мотивации выбора
- Дмитрий Бак: «Словарь Даля до сих пор не имеет себе равных в мировой практике»
- Доку Завгаев для «Российской газеты»: Интерес к Международной премии мира имени Л.Н. Толстого растет
- Руслан Гагкуев представил цикл документальных фильмов «Профессия — историк»
- Сила памяти. Что мы отмечаем в День народного единства