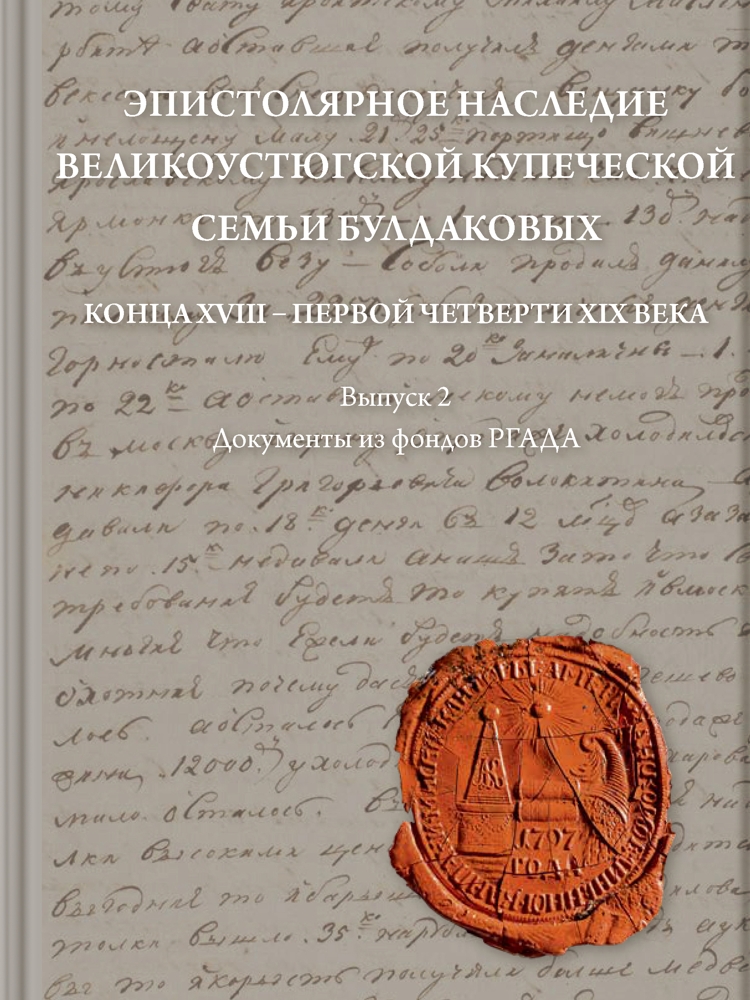О русской революции написаны тысячи книг, однако люди по-прежнему недоумевают: что произошло? Вопросы, не находящие ответа, стимулируют не столько научный интерес к истории, сколько любопытство к былым «героям» и «злодеям». Обычно люди слишком связаны суетностью настоящего для понимания истинной природы социальных катастроф прошлого. А потому сегодня, чтобы совсем не потерять лица перед величием хаоса Революции, одни авторы стремятся упростить ее до бессодержательных социологических формул, другие призывают забыть «неудобное» прошлое как случайный кошмар. На фоне кровавых и грязных событий 1917 года мало кто из них отказал себе в «праведном» морализаторстве. Труднее понять, ощутить и прочувствовать дух того времени, независимо от того, нравится сегодня его «аромат» или нет.
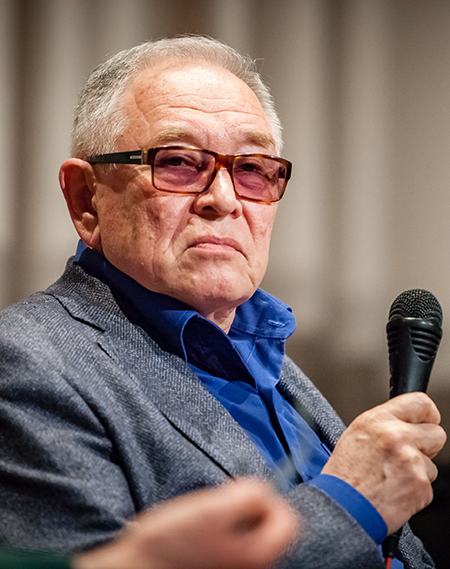 В широком смысле революцию напророчила вся русская культура с ее нетерпеливыми элитами. Православное мессианство перемежалось с духом культурного самоуничижения перед Западом. Революция поселилась внутри России. Но какая революция? Анархо-гедонистическая – как у идеологов общинного социализма? Или марксистская, образом которой, заодно с утопией Чернышевского, вдохновлялся Ленин? А, может быть, «революция» Степана Разина и Емельяна Пугачева? Искушение будущим в силу невозможности найти себя в настоящем – это и есть главный психосоциальный источник всякого революционаризма. И если даже «прагматичная» Европа оказалась подвержена соблазну социалистической утопии, то что ж оставалось делать «беспочвенной» русской интеллигенции?
В широком смысле революцию напророчила вся русская культура с ее нетерпеливыми элитами. Православное мессианство перемежалось с духом культурного самоуничижения перед Западом. Революция поселилась внутри России. Но какая революция? Анархо-гедонистическая – как у идеологов общинного социализма? Или марксистская, образом которой, заодно с утопией Чернышевского, вдохновлялся Ленин? А, может быть, «революция» Степана Разина и Емельяна Пугачева? Искушение будущим в силу невозможности найти себя в настоящем – это и есть главный психосоциальный источник всякого революционаризма. И если даже «прагматичная» Европа оказалась подвержена соблазну социалистической утопии, то что ж оставалось делать «беспочвенной» русской интеллигенции?
Задолго до 1917 года было отмечено, что европейские ментальные недуги порождают на русской почве целые эпидемии. Самую смертоносную из них породило вторжение в Россию марксизма. Впервые русская интеллигенция столкнулась с утопией, покрытой броней «научного» знания. И этого выпущенного из бутылки джина мог победить только более сильный джин. Его внутри русской культуры не нашлось…
Чаще всего историю революции представляют как столкновение государства и элит, точнее, псевдоэлит в лице политических партий. Однако к подлинным элитам в России имеет смысл относить только представителей творческих профессий. Политика сама является частью культуры, хотя время от времени власть пытается навязывать людям творчества свои преференции. История революции в России – это история конфликта «застойной» государственности и творческого начала в человеке. Пониманию этого конфликта мешают эмоции, связанные с архаичной идеализацией власти.
Масса российского населения не была культурно отформатирована для политики западного типа. Тем не менее, русская интеллигенция в своем подавляющем большинстве упорно хотела жить в российской культурной среде по законам и принципам западной политики. Прошло более столетия, а исследователи русской революции не желают замечать этого эксплозивного противоречия. Трудно вообразить более нелепую историографическую ситуацию, не только не противостоящую предрассудкам, но и невольно мистифицирующую прошлое.
Сегодня мы имеем ту историю революции, которую заслужили за столетие хождения на поводу у лживых или ограниченных политиков. «Гении» и «злодеи», «пророки» и «шарлатаны» – все эти не уходящие со сцены персонажи нашего «непредсказуемого» прошлого – словно намеренно менялись местами для того, чтобы освободить простор для вновь и вновь возрождающихся предрассудков. В результате мы получили историографию революции, соответствующую нашим когнитивным способностям, точнее – слабостям. С таким убогим багажом невозможно двигаться в будущее. Такие представления о величайшем социальном катаклизме слишком примитивны и плоски для современного уровня историографического самопознания. Величайшее потрясение прошлого заслуживает более фундированной и беспристрастно аргументированной оценки. В своей работе «1917 год. Элиты и толпы в русской революции», поддержанной Фондом «История Отечества», мы с соавтором, Татьяной Леонтьевой, делаем попытку двинуться по этому пути.
И дело не в критике сложившихся представлений о революции, а в стремлении – в обход их – разглядеть ее «решающие» события через культурные коллизии того времени и/или увидеть «знакомое» прошлое глазами людей того времени. Ведь по большому счету именно интеллектуальное безволие блокирует познание революций (особенно российских) как системных кризисов, порожденных как глобальными, так и внутренними культурными сдвигами с их непременно болезненными психосоциальными последствиями.
Бывают времена, когда готовность к историографическому самообману становится психологическим противовесом реальным и надуманным ужасам прошлого, готовым вторгнуться в современность. И если современный россиянин готов бездумно поверить, что в 1917 году его наивных предков можно было запросто увлечь неведомо куда или, попросту говоря, облапошить – то в сущности, он вбрасывает в прошлое набор своих собственных качеств, уродливо гипертрофированных mass media. Для него прошлое состоит из «демонов революции» и их несчастных «жертв», причем такая установка становится все более распространенной – человек вновь перестает понимать, в каком мире, в какой культурной среде он живет.
А потому наша работа призвана показать многообразие культурных (если угодно, псевдокультурных) ликов революции. Когда реальность становится зыбкой, когда воображаемое и возможное, эмоциональное и рациональное, возвышенное и дурное вклиниваются друг в друга, образуя невероятную синергетическую «смесь», даже у теоретически подготовленных потомков то и дело возникают ментальные ступоры. И этот процесс не минует «самые свободные» виды творчества. Культура в широком смысле слова предполагает, что «не бывает потрясения в стилях музыки без потрясения важнейших политических законов» (Платон). О том, что в предреволюционное время была создана «Поэма огня» А. Скрябина, не стоит забывать.
Обозначенный в названии книги 1917 год – дата не столько хронологическая, сколько символическая, сравнимая со значением 1789 года в истории Великой французской революции. В том и другом случае революция потрясла мир, и там, и здесь ее последующие «светлые» образы перемежались приступами ретроспективной паранойи. Немногим героям данной книги дано было осознать, что российский революционный взрыв был связан с резонированием ритмов мировой и отечественной истории – слишком сильны были свои российские эмоции. Их можно понять. Другое дело нынешние «обличители» революций, вольно спекулирующие фантомными болями прошлого.
Тематика «интеллигенция и революция» давно является одной из самых заезженных не только в российской, но и в зарубежной историографии. Причины понятны: хорошая обеспеченность источниками, «впечатляющий» фон для самоидентификации, возможность вписаться в любую политическую конъюнктуру. Неудивительно, что до недавнего времени авторы, в большинстве своем, сбивались на противопоставление культуры и революционного хаоса. В данном случае упор делается на их органической связанности при всем несомненном взаимном отторжении.
Ведь историей «тонкой материи», агрегированного «духа» революционных событий практически никто не занимался. Хотя и в советской, и в современной российской, и в западной литературе можно найти немало фактического материала, заставляющего усомниться в том, что революция развивалась согласно «разумным» социальным интенциям, не говоря уже об эстетических, политических и доктринальных предписаниях. Несомненно, сказывалось наследие «классического» позитивистского подхода. Между тем при исследовании турбулентных общественных состояний он в наибольшей степени обнаруживает свою ограниченность. И трудно сказать, сколь глубоко страсти и ужасы прошедших веков прорастают в сознании человека смутных времен.
Как бы то ни было, 1917 год добавил ко всему этому крайнюю аффектированность практически всех социумов. Хаотичная обыденность русской революции определялась не только и не столько социологическими «законами», сочиненными в «спокойное» время, сколько страстями, надеждами и психозами – как отдельных («больших» и «маленьких») людей, так и «историческим подсознанием» толп.
В известные времена революционные идеалисты могут стать фанатиками, конформисты – злобными ретроградами, консерваторы – яростными контрреволюционерами. Слухи, сплетни, пересуды, наветы, злословие и бытовая скабрезность переломных времен – все это превращается в действенный фактор стимулирования тектонических общественно-исторических сдвигов. К сожалению, даже профессиональные историки склонны игнорировать эту сторону российской истории. Застарелая склонность к этатизации и политизации истории, не говоря уже об упорных попытках втиснуть прошлое в рамки современных миропредставлений, приводит к расцвету пошлостей конспирологического жанра.
В российской культуре, с ее характерной неразделенностью реального, воображаемого и символичного, был чрезвычайно силен игровой момент. Исследователи его недооценивают. Это, несомненно, повлияло не только на оценку предреволюционных настроений страны, но и на понимание динамики событий 1917 г. Изнутри России невозможно было предсказать ее будущее, зато его можно было «накаркать». Для многих современников революции умозрительность российского образа мысли не составляла секрета. Однако через сто лет водораздел между некогда задуманным и реализуемым как-то стирается.
Маркс считал революции локомотивами прогресса. В это верил и Ленин. Сегодня впору считать, что революция – это своего рода тормоз для безрассудных технологических модернизаций, не считающихся с «несовершенством» человеческой природы. Большевизм – это политика на службе у надежды. Надежды фантазера и простака – тех самых главных фигур русской истории, которые вылепливает культура авторитарного патернализма. А тот «не помнящий родства» историк, который ныне делает карьеру на обличении большевизма, ничем не лучше своего коллеги, некогда воспевавшего это жутковатое, но вполне эндогенное порождение русской истории, вызванное мировой войной. Впрочем, часто это одно и то же лицо. Ибо кровавые «нелепости» прошлого вызывают повышенную блудливость разума последующих поколений. А беззаботный интеллектуальный консюмеризм отнюдь не так безопасен, как может показаться.
Вглядываясь в прошлое, трудно представить себе бóльшую степень опошления образа революции, вновь именуемой Великой, чем тот, который сложился в нынешнем российском массовом сознании. В основном это связано с mass media, откровенно работающими на потребу человеческой дури. Вместе с тем, через нынешние «успехи» вольного и невольного провоцирования «разрухи в головах» можно отчетливее разглядеть лакуны научной историографии «красной смуты». Такой подход и предопределил тематику и стилистику данной работы – это попытка объяснить, как была включена в деструктивный процесс русская культура в самом широком смысле слова и какие ее элементы помогли постреволюционному возвращению российской истории «на круги своя».
Как ни странно, задача такого рода не требует особо изощренных источниковедческих приемов и поиска новых документов в архивах. Необходимый материал лежит на поверхности: за последние десятилетия опубликовано такое громадное количество материалов о корифеях искусств и о культурной жизни начала ХХ века, что исследователи не успевают их переваривать. В особой степени это относится к историкам, упорно игнорирующим «тонкие материи» людского бытия. Авторам оставалось лишь дополнить сложившуюся документальную базу малоизвестным газетным материалом. Это связано с попыткой донести дух той эпохи и показать, что история развивается отнюдь не по восходящей экспоненте, построенной на основании бюрократической цифири. Да и вообще не стоит тешить себя иллюзиями о том, что от Традиции к Модерну можно проехаться как по Невскому проспекту. Так было принято думать в советское время. Результат подобного образа мысли известен. Главное в работе историка – умение читать, а не писать. Читать те тексты прошлого, которые не дано прочитать верхоглядам. Именно читать, а не считать. Иначе получится толстая «ученая» книга для дураков.
Владимир Булдаков, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института российской истории РАН
Связанные
Вас возможно заинтересует:
Это демонстрационная версия модуля
Скачать полную версию модуля можно на сайте Joomla School
Поиск по сайту
ПОСЕТИТЬ ДОМ РИО
Вестник №4/2025
Фотоархив РИО
Новости Региональных отделений
Тульские историки присоединились к презентации новых книг Фонда исторической перспективы

25 февраля 2026 года в пресс-центре Общественной палаты Российской Федерации состоялась презентация новых книг Фонда исторической перспективы «Народная война. Российское общество и армия в моменты испытаний», «Советско-китайское военное братство против японской агрессии», Элизео Бертолази «Конфликт на Украине глазами итальянского журналиста».
Новости проектов
- В палатах Аверкия Кириллова на Берсеневской набережной обнаружен уникальный клад серебряных монет
- Участие военнопленных в Гражданской войне в России: мотивации выбора
- Дмитрий Бак: «Словарь Даля до сих пор не имеет себе равных в мировой практике»
- Доку Завгаев для «Российской газеты»: Интерес к Международной премии мира имени Л.Н. Толстого растет
- Руслан Гагкуев представил цикл документальных фильмов «Профессия — историк»